Вера Калмыкова родилась в Москве (1967). Филолог, кандидат наук, искусствовед, член Союза писателей Москвы, редактор. В бытность главным редактором издательства «Русский импульс» подготовила к изданию книги о жизни и творчестве Н. А. Львова, Ф. О. Шехтеля, Г. Г. Филипповского и др. В 2010 г. книга «Очень маленькая родина» (в соавторстве с фотохудожником Сергеем Ивановым) стала лауреатом конкурса «Книга года». Лауреат премии имени А. М. Зверева (журнал «Иностранная литература», 2011). В издательстве «Белый город» опубликовала ряд монографий по истории мирового и русского изобразительного искусства. Публикации стихотворений, критических статей, публицистики в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Вопросы философии», «Гостиная», «Дружба народов», «Звезда», «Зинзивер», «Знамя», «Культура и время», «Литературная учёба», «Наше наследие», «Нева», «Октябрь», «Собрание», «Урал», «Филологические науки», «Toronto Slavic Quarterly», одесском альманахе «Дерибасовская — Ришельевская» и др. Автор статей в «Мандельштамовской энциклопедии» и в др. энциклопедических изданиях. С 2011 г. сотрудничает с московской галереей «Открытый клуб», участвовала в проекте «Точка отсчёта». Автор двух поэтических книг: «Первый сборник» (Милан, 2004) и «Растревоженный воздух» (Москва, 2010).
Бездомная жизнь сквозняка
Ефим Бершин. Мёртвое море. СПб.: Алетейя, 2021
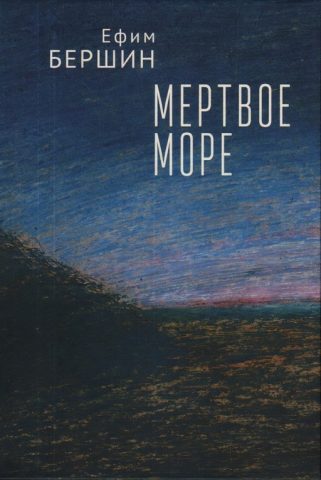 Более ста лет назад сложился кодекс хороших поэтических манер: стихи одного автора, собранные под крышкой переплёта (обложки), должны составлять не случайный сборник, а книгу как целостный текст. В идеале читатель замыкает себя в рамки наподобие классицистических: не сходя с места и не прерываясь, он за потребное время прочитывает её всю и получает то впечатление, которого добивался поэт.
Более ста лет назад сложился кодекс хороших поэтических манер: стихи одного автора, собранные под крышкой переплёта (обложки), должны составлять не случайный сборник, а книгу как целостный текст. В идеале читатель замыкает себя в рамки наподобие классицистических: не сходя с места и не прерываясь, он за потребное время прочитывает её всю и получает то впечатление, которого добивался поэт.
«Мёртвое море» Ефима Бершина отвечает этому условию полностью. Книга состоит из четырёх разделов — собственно «Мёртвое море», «Забытый выстрел», «В остывающем небе», «Четвёртый Рим», и трёх циклов: «Армения», «Миллениум», «Стансы». Мотивы, связывающие тексты в единую смысловую сеть, возникают и в самом первом произведении: «Что ни море у ног — обязательно Мёртвое море», и в самом последнем, завершающей строкой: «под брусчаткой Москвы бесконечное мёртвое море» (о том, что происходит со сменой прописной буквы на строчную, позже). В четвёртом стихотворении, «Вороватое небо крадётся в закрытую дверь…»: «Что сказать тебе, друг, про бездомную жизнь сквозняка…». И в тех же заключительных «Стансах»: «…почти что уже без тела // сквозняком вползаю на твой порог».
Сквозняк — самоименование лирического героя. Бесплотный иероглиф, начертанный в атмосфере, отыгранная нота, нечитаемый след неразгаданного жеста, дорожка, проложенная в воздухе отзвучавшим словом, тень звука, текст, не дописанный до поры. «Я — никто, я — ничей, я — не сын» («Переводчик, толмач, кукловод…»). Когда автор пишет: «Я пытался понять, как бывает с ноктюрном, // улетающим в ночь за пределы смычка…» («На соседней террасе играли на скрипке…»), он время и собственной жизни ощущает уходящим капля за каплей.
Одушевлённая метонимия, речь вместо говорящего, пространственная форма пустоты, послание существа, стоящего на грани бытия и не-, обращение временнообязанного, торопящегося отбыть земной срок, к вечности, к Богу. Бершина не интересует urbi et orbi, его собеседник значительно серьёзнее. Диалог происходит в странном ключе, это скорее родственное выяснение отношений, призывы и вопросы повзрослевшего, с университетским дипломом Буратино к нестареющему Папе Карло: «Господи, вспомни!», «Если ты — создатель, то аз есть кто?» с ответом на последнее: «я лишь звук, разгуливающий в пальто» («Безымянный ваятель камней и гор…»). Или констатация: «Это во мне умирает Бог, // который в меня так верил» («Это цвет вытесняет цвет…»). Или воспоминание о первой эпохе первого Завета, когда ещё действовал между Создателем и созданием договор о совместной реализации творческих планов:
И, мгновенные истины у дождя воруя,
нет, не «дай» говорю,
«возьми», — Ему говорю.
Потому что сегодня я дарую.
(«Ничего не прошу — не хлеба, ни очага…»)
Потому-то лирический герой Бершина стремится в то время, когда ещё не был создан Новый Завет, обосновывающий закономерность и необходимость Распятия («Хочу к Иисусу Христу…»), и славит храбреца,
…от камня Агасфера
бежавш[его] назад в блаженный Вифлеем,
где сеном дышит хлев,
и путь ещё не ясен,
и гонят пастухи покорные стада,
и жертвенным быком у изголовья ясель
под самым потолком беснуется звезда.
(«Юродивый, дурак, потомок пилигрима…»)
Конечно, мотивов, скользящих по всему корпусу текстов, в «Мёртвом море» значительно больше двух. Мелькают на страницах то вороны, то собаки (с ними лирический герой порой себя отождествляет) — обычные жители пограничных областей. Или появляется, например, некоторое отверстие, через которое навылет живущий может видеть иную область: море, «форточка неба, которую выбил Бог»; сквозная дыра «от пробитой гвоздём ладони» — через неё не только видна вечность, но и заметно, как «Новый Завет // просачивался из Ветхого» («Это цвет вытесняет цвет…»). Сквозняк проникает сквозь брешь туда и обратно, таков его самый настоящий, единственно подходящий для жизни дом. Через тоннель между двумя ближайшими точками параллельных миров, внезапно вытряхнутых на одну плоскость, путь из А в Б запредельно короток, география отменена, и физический мир, раз навсегда сдав позиции, переустраивается так, чтобы расстояние между реальными Москвой и Иерусалимом было не длиннее взгляда. Действие «Мёртвого моря» разворачивается между Тверией и Тверью, Волгой и Галилейскими водами, и в этом нет ни эха державинских амбиций, только заданные координаты. А в «Кругом песок» та же идея подчёркнута параллелизмом: «И мне уже не выйти из пустыни… И мне уже не выйти из России».
Приём не нов. Таким же образом конструировали художественное пространство живописцы Ренессанса, одевая Деву Марию по моде своих стран и перемещая хлев в европейский ландшафт. Время Рождества сейчас и везде; но и место Иерусалима здесь, в Москве, на Среднерусской равнине, рядом с пунктами приёма стеклотары, посреди горбатых и косых улиц:
И с Храма, заслонившего пустырь,
смывает дождь остатки позолоты.
Молчит Христос. Безмолвствует Псалтырь.
Не спят в Кремле кремлёвские зелоты.
И поутру, покинув Мавзолей,
всесильный Ирод на всеобщем рынке
недоуменно бродит средь людей
и милостыню просит на Ордынке.
(«Сырое одиночество огней…»)
Ещё одна примета книги стихов как целостного текста — диалог со товарищи-поэты, гарантирующий продвижение по родной речи как особому пространству. «И звезда уже больше не говорит // со звездой и идёт ко дну» («Средиземное море теряет ритм…»), «за то, что уже не умею молиться, как вы» («Чужой, как Иосиф, забытый в колодце Москвы…»), «Мы были временем без места…» («Покуда снег белил ворону…») — Лермонтов, Мандельштам и Пастернак опознаются как указатели, мол, до посёлка столько-то, и километропункты складываются в единую карту маршрута по христианской культуре, сущность которой представлена в тексте «Скульптура дерева…», слишком целостном, чтобы цитировать. Все дороги в ней ведут, против ожидания, не в Рим и тем более не по географическим точкам:
Когда мы шли с тобой в Ерушалаим
по переулкам и дворам Москвы,
где нас собаки провожали лаем,
где мы скрывались от людской молвы
в каком-то затрапезном кинозале,
где синий сумрак был неодолим, —
мы прятались, чтоб люди не узнали,
что мы с тобой идём в Ерусалим.
(«Когда мы шли с тобой в Ерушалаим…»)
Со стороны автора было бы странно, однако, отменить географию с геометрией и не покуситься на материю, на объёмы, не запустить механизм метаморфозы далее, в глубь вещества. Метонимии «крылья летают отдельно от птиц» или «роща [становится] переливом соловьиным» указывают путь к дальнейшему расподоблению объектов, причём самых крупных, значимых для ландшафта всей земли, даже не континента: «Пространства нет! // Есть вечная дыра // в окаменевшем облике пространства. <…> Так свищет над планетой Эверест, // смиренно принимая форму неба» («Пространственная форма пустоты…»). В другом случае «пустая плоть, // ненужная, как валенки в июле, // напоминает <…> след от пули», да и Родина — «сквозная пустота» («Памяти Жени»). В третьем высказывание почти афористически однозначно:
Пространство — фикция. Оно
к себе притягивает страстно
лишь тех, которым не дано
перемещаться вне пространства.
(«Опять горнист исход трубит…»)
Однако погодим говорить о торжестве ничто в поэтике Бершина. Своим пустотам он придаёт сакральный статус; это не помпейские фигуры, заполненные пеплом, а вместилища нематериальных смыслов, которым, строго говоря, нужна не столько тара, сколько привязка. В стихах памяти Бориса Чичибабина потому и сказано: «беспризорный посланник природы, никто, // пустота, без которой земля опустела».
Лишь на один хронотоп автор не покусился: это время после окончания Великой Отечественной и место «на руинах той войны», двор детства.
Но у меня своя была война,
свой вечный бой, который вечно длился
меж двух дворов.
И не моя вина,
что я родился там, где я родился. <…>
Мы шли на штурм разболтанных оград
чужих садов, ломая ветки с хрустом,
не славы ради и не для наград —
там был наш враг.
А я считался русским.
(«Я вырос на руинах той войны…»)
В этой области всё незыблемо, сохранены пропорции, звуки, запахи. Три героя стихотворения «И когда это было — мне вспомнить уже не дано…», балагула, весёлый портной и безногий сапожник, певшие «тумбала-балалайку», никуда не делись из личного времени лирического героя, неизменного и целостного:
Где я видел их лица? Зачем выплывают они
из далёкой страны, нагоняя тоску и усталость, —
из забытых времён, от которых остались одни
головешки пожарищ, и даже страны не осталось.
Но и в случаях, когда факт биографии в неизменном виде становится фактом литературным, элегическая повествовательность никогда не переходит у Бершина за границу поэзии, в область повествовательности чистой. В «Мёртвом море», построенном на тысяче подробностей, от обыденной сущности которых автор молниеносно и бесповоротно открестился, мировоззрение единственное — лирическое.
Не сердись, что так долго я был дождём
и стекал со стекла, как слёзы со щёк.
Не сердись. Давай ещё подождём.
Может быть, замёрзну ещё.
(«Переход из осени в снегопад…»)
Большинство жизненных обстоятельств в поэтике Бершина ждёт неумолимый приговор: они не проговариваются. Ни одна знаковая реалия не использована так, чтобы её можно было истолковать хоть с минимальным социальным подтекстом («В осеннем парке, где тоскует бюст…»). Исключение составляют разве те, что относятся к образу войны, ведь Бершин поэт совсем не Гераклитова плана: «Но кто сегодня агнец — // Уже не угадать» («Осенние ямбы»); поэт наверняка знает, что «за окном гуляют мальчики, // готовясь жить и убивать» («И скрежет дальних поездов…»).
Зато фонетические процессы порождают круг новых явлений, живых только звуком. В стихотворении «Средиземное море теряет ритм…» таков аллитерационный ряд ритм, грим, Рим, Храм, род, рок, круг, Кипр, крик. В других случаях словесные повторы побуждают слово прирасти смыслом и контекстуально обогатиться: «Ум уже неподвластен собственному уму» («Меня прислали сказать вам, что он не придёт…»), «А за окном давно уже не люди // бредут, как люди, люди по Тверской» («Зима как будто сыграна на лютне…»).
Потеря ритма — ещё один сквозной для Бершина мотив. Дыхание, приливы-отливы, звуковые соответствия для него — суть смысловые процессы, конституирующие бытие как целое. Потому-то диалог с Богом в «Стансах» завершается пронзительным:
…я уже устал за тебя творить
параллельный мир из земного праха.
Потому что из этого мира уходит ритм.
И огромный мой город — памятник лютой страсти,
беззащитен и гол, как стихи без рифм.
Я стою посреди земли, как последний Рим,
в непонятном своём, бескрайнем своём пространстве.
В аритмичном мире Мёртвое море обречено превратиться в мёртвое, метонимия — дойти до воплощения в реальности. Книга Ефима Бершина, в которой нет ни одного слова вне искусства, которая характеризуется беспримесным эстетическим качеством, неожиданно самим фактом своего существования с такой композицией оказывается предупреждением о возможной катастрофе. Так и вспомнишь, что поэтам дано слышать скрытые колебания земной коры и переводить её высказывания на человеческий.
Было бы «Мёртвое море» прозой — получился бы хоррор.
Однако это поэзия.



